Венецианские живописцы
КНИГА I
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЖИВОПИСЦЫ
I
СРЕДИ ШКОЛ итальянской живописи именно венецианская сильнее и постояннее всего притягивает к себе большинство любителей искусства. В кратком очерке, посвященном ее развитию, мы, возможно, сумеем указать лишь на некоторые ее черты, особенно привлекающие нас. Если же мы приблизимся к пониманию самого духа венецианского искусства и того значения, какое оно приобрело для всей европейской живописи за последние три столетия, нам легче будет объяснить и тот интерес, который вызывают к себе его художники.
Венецианские живописцы, начиная с самых ранних, обладали необычайно тонким вкусом в передаче цвета. Их колорит никогда не кажется надуманным, как у многих флорентийских художников, и не грешит излишней пестротой, как у веронских мастеров.
Когда наш глаз привыкает к потемневшей от времени поверхности картин, к покрывающим их слоям грязи, к попыткам неудачной реставрации, то лучшие венецианские полотна являют нам такую гармонию замысла и воплощения, которая бывает присуща лишь высочайшим творениям подлинных поэтов. Мастерство венецианских живописцев в области цветовых решений — первое, что привлекает внимание большинства исследователей. Их колорит доставляет наслаждение не только глазу, но удивительным образом действует на настроение, подобно музыкальной мелодии, пробуждающей в нас различные мысли и воспоминания.
II
С момента своего возникновения церковь сумела учесть воздействие цвета, так же как и музыки, на чувства молящихся. С самых древних времен она использовала мозаику и живопись для утверждения религиозных догматов и пересказа своих легенд не только потому, что они оказывали влияние на людей, не умевших читать и писать, но также и потому, что искусство внушало известные понятия, принимаемые на веру, и побуждало к набожности и покаянию. Эту задачу, которую ставила перед собой церковь, прекрасно выполняли наряду с тончайшими мозаиками первых времен христианства ранние произведения Джованни Беллини — величайшего венецианского мастера XV столетия.
Художники его времени достигли той степени технического совершенства, которая позволяла им беспрепятственно выразить в картинах сильные и глубокие человеческие чувства. Нельзя без волнения и восторга смотреть на ранние вещи Джованни Беллини с изображением мадонн или мертвого Христа, поддерживаемого богоматерью и ангелами. А ведь мастер был не одинок. Его современники Джентиле Беллини, братья Виварини, Кривелли и Чима да Конельяно начинали свой творческий путь вместе с ним, и их картины производят почти такое же впечатление.
Тем не менее церковь, воспитывавшая людей в понимании живописи как средства выражения глубочайших чувств, не могла рассчитывать на то, что и в дальнейшем будет использовать ее лишь в этих целях — то есть как источник религиозных переживаний. Люди начали испытывать потребность в живописи, подобно тому как мы в наши дни испытываем потребность в газетах; и это было естественно, так как до изобретения книгопечатания только живопись могла, помимо разговорной речи, выражать и пропагандировать понятия и идеи.
Именно тогда, когда Беллини и его современники достигли творческой зрелости, художественная культура Возрождения вступила в новую фазу своего развития, создателями которой стали не только ученые и поэты, но и живописцы. К концу XV века широкое распространение получили известные литературные произведения той эпохи. Естественно, что и живопись стремилась выйти из-под опеки церкви, для которой она в течение тысячелетий служила наиболее излюбленным и привычным проводником религиозных идей.
Чтобы уяснить себе эпоху Возрождения именно того периода, когда ее дух особенно ярко воплотился в живописи, полезно сделать краткий обзор культурной жизни Италии, потому что только при высоком уровне ее развития искусство смогло наиболее полно и естественно выразить его.
III
Тысячелетие, прошедшее между началом христианской эры и серединой XIV века, довольно удачно сравнивали с первым пятнадцати- или шестнадцатилетием в жизни человека. Полны ли эти годы горем или радостью, бурями или покоем, они неизбежно связаны со становлением человеческой личности, с ее еще неполностью развитым и самостоятельным отношением к окружающей действительности.
К концу XIV века в Европе случилось то, что случается в жизни всех одаренных людей. Пробудилось чувство индивидуальности. Хотя это в большей или меньшей степени произошло повсеместно, Италия ощутила это пробуждение раньше и гораздо сильнее, чем остальные страны Европы. Первым проявлением его была безграничная и ненасытная любознательность, побуждавшая людей узнавать все, что они могли, об окружающем их мире и человеке. Они ревностно принялись изучать классическую литературу и древние памятники, потому что последние давали им в руки ключ к необъятной сокровищнице забытых познаний. Действительно, их влекло к античности то непреодолимое стремление узнать мир, которое несколько позже привело, например, к изобретению печатного станка и открытию Америки.

ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. ДОЖ ЛОРЕДАНО, Ок. 1507
Лондон, Национальная галерея
Первым следствием обращения к классической литературе было возникновение культа сильной человеческой личности. Римская литература, естественно ставшая доступной итальянцам много раньше греческой, касалась главным образом политики и войн и уделяла непомерно малое внимание индивидуальному человеку, выдвигая на передний план лишь участников великих исторических событий. Нужно было сделать только один шаг, чтобы, поняв величие того или иного события, поверить, что причастные к нему люди обладали таким же величием. Это убеждение, существовавшее в риторической римской литературе, совпало с новым представлением о человеческой личности в эпоху Ренессанса и привело к тому безграничному восхищению перед могуществом и совершенством человеческого гения, которое стало одним из наиболее существенных предвестников раннего Возрождения. Римская литература способствовала развитию культа гениальной личности, который в свою очередь порождал интерес к тому периоду мировой истории, когда ярко одаренные индивидуальности были отнюдь не исключением.
Страсть к открытиям и неутолимая пытливость этой эпохи привели к изучению античного искусства и литературы, а любовь к греческой и римской классике повлекла за собой подражание ее зданиям и статуям, так же как прозе и поэзии.
До сравнительно недавнего времени едва ли была известна древняя живопись, тогда как здания и статуи были доступны всем, кто уделял им серьезное внимание. В результате оказалось, что, в то время как архитектура и скульптура Возрождения находились под непосредственным и сильным влиянием античности, живопись испытала его только в той мере, в какой изучение искусства древнего мира способствовало повышению качества рисунка и выработке хорошего вкуса. Таким образом, страсть к открытиям могла проявить себя в живописи только косвенно, поскольку она помогла художникам постепенно овладеть техническими знаниями, необходимыми в их мастерстве.
Безграничное восхищение человеческой гениальностью и восторг перед тем, что великие имена Древнего Рима, пережив свое время, не померкли в веках, привели к двум последствиям: любви к славе и стремлению оказывать покровительство тем искусствам, которые могли бы увековечить выдающиеся имена и дела их меценатов. Слава Древнего Рима, воплощенная в литературных и художественных образах поэтами и ваятелями, докатилась до людей Возрождения. Она стала для них своего рода религией, а итальянские поэты и писатели, подобно своим далеким предкам, также стремились прославить свою эпоху. Примерно через двадцать или тридцать лет — возраст одного поколения — стали выдвигаться архитекторы и скульпторы.
Страсть к славе, больше чем влечение к красоте, была первым стимулом к тому, чтобы оказывать покровительство искусствам в эпоху Возрождения. Однако, не обладая тонким художественным вкусом, сами меценаты прекрасно понимали, что, чем величественнее будет возведенное для них здание, чем совершеннее созданная статуя, тем большее уважение вызовут у потомков их имена. И они не ошиблись, потому что если изучение их истинных достоинств и недостатков было уделом специалистов или любителей старины, то здания и памятники, возведенные по заказу таких герцогов, как Сиджизмондо Малатеста, Федериго Урбинский или Альфонс Неаполитанский, заставили всех культурных людей поверить в то, что эти властелины и на самом деле были теми выдающимися личностями, за которых они себя выдавали.
Так как живопись в то время еще не могла удовлетворить их честолюбие, то первые поколения ренессансной знати ничего не ожидали от нее и не оказывали ей того покровительства, которое продолжала в своих интересах оказывать ей церковь. Живопись Возрождения начала развиваться, лишь укрепив свои позиции, когда страсть к знанию, власти и славе перестала быть единственной движущей силой эпохи. Тогда, следуя примеру церкви, люди обратились к этому виду искусства, призванному выражать их глубокие и горячие чувства. Любовь к славе, которую я назвал новой религией, по своей внутренней сущности — чисто земное понятие, основанное на человеческих взаимоотношениях. Безудержная любознательность Возрождения была теснейшим образом связана с интересом к реальной жизни и с восприятием конкретных явлений. С той минуты, когда взоры людей перестали обращаться только к небу, они увидели вокруг себя земной мир с его радостями. Собственная личность приковала к себе внимание и показалась неожиданно приятной, тем более что средневековые богословы игнорировали этот вопрос. Возникло новое ощущение ценности жизни, будь она даже простой или бедной, а вместе с ним родилась и новая страсть — к красоте и изяществу.
Уже было сказано, что эпоху Ренессанса в истории современной Европы сравнивали с молодостью человеческой жизни. Это время действительно обладало чисто юношеской любовью к украшениям и развлечениям. Чем больше людей проникалось новым светским духом, тем больше они стремились к пышным зрелищам. В них находили себе выход многие кипящие страсти того времени, в них человек мог выставлять напоказ великолепие своих нарядов, удовлетворять свою любовь к античности, маскируясь под Цезаря или Ганнибала; мог интересоваться обычаями, одеждой и триумфальными шествиями древних римлян, демонстрируя при этом себя, свое богатство и умение организовать эти церемонии; и что важнее всего — эти зрелища выражали его радостное и чувственное восприятие жизни.
Многие видные историки описывали до мельчайших подробностей различные празднества, на которых им довелось присутствовать.
Мы уже говорили о том, что ранние предвестники эпохи Возрождения — страсть к знанию и славе — не могли стимулировать развитие живописи. Равным образом любовь к древности не оказала на нее того влияния, как на архитектуру и скульптуру. Правда, честолюбие людей Возрождения способствовало тому, что стены капелл стали украшаться фресками с робкими изображениями заказчиков, тех, кто не мог позволить себе роскошь возвести собственную монументальную постройку. Но это произошло лишь тогда, когда люди, полностью оценив мирскую жизнь и наслаждения, естественно и неизбежно обратились к живописи, ибо стало очевидно, что она создана для того, чтобы изображать различные жизненные явления, передавая при этом глубину человеческих чувств, используя все возможности цвета и света.
IV
Именно Венеция с наибольшей полнотой отразила в своей живописи ренессансное мировоззрение, и этим, возможно, объясняется тот постоянный интерес, который вызывает к себе ее искусство. С нее мы и начнем.
Растущее благосостояние венецианцев более высокое, нежели в остальных частях Италии; их настойчивость, энергия, оптимизм, а также привязанность к житейским радостям и благам способствовали гедонистическому жизневосприятию. Все это было в какой-то мере связано с характером венецианского правления, которое отличалось тем, что предоставляло мало простора для развития личного честолюбия и так регламентировало государственные обязанности своих граждан, что они поглощали почти весь их досуг. Венеция, во всяком случае, была единственным государством в Италии, долгое время наслаждавшимся миром. Все эти условия развили в венецианцах пристрастие к жизненным удобствам, покою и роскоши, привили им утонченные и обходительные манеры, создали им репутацию наиболее культурных людей в Европе. Так как в Венеции предоставлялось мало простора для развития индивидуализма, то гуманисты — ярые его приверженцы, находили в ней слабую поддержку, вследствие чего венецианцы почти не проявляли интереса ни к археологическому прошлому своей страны, ни к отвлеченным научным проблемам, которые так рано и сильно захватили Флоренцию.
Но для Венеции это оказалось благотворным, так как условия ее жизни были словно нарочно созданы для того, чтобы развивать понимание и вкус к прекрасному. Эстетическое чувство развивалось свободно, не встречая на своем пути препятствий. Археология с ее неизменной тягой к прошлому пыталась бы подчинить это чувство своим интересам, но не дала бы полностью раскрыться художественным вкусам венецианцев.
Слишком много археологии и слишком много науки могли бы сделать венецианское искусство академичным, а не таким, каким оно стало,— естественно созревшим плодом новых жизненных интересов и любви к наслаждениям.
Во Флоренции живопись развивалась почти одновременно с другими искусствами, и, может быть, по этой причине флорентийские художники никогда полностью не могли осознать отличие своих задач от задач архитекторов и скульпторов. Даже в то время, когда живопись стала играть большую роль в искусстве Возрождения, флорентийцы все еще придерживались классических идеалов формы и композиции, они были слишком академичны и чужды жизнерадостной и чувственной прелести венецианского искусства.
В венецианских картинах конца XV века уже не ощущается благочестивого или религиозного настроения, как раньше, когда церковь использовала живопись в своих целях, отсутствует в них также и рассудочность, отличающая флорентийскую школу. Правда, подчиняясь традиции, венецианские мастера продолжали писать мадонн и святых, однако в эти религиозные образы они вкладывали чисто светское содержание, изображая в своих картинах красивых, здоровых и спокойных, подобных им самим людей, наслаждавшихся жизнью и не нуждавшихся ни в каких моральных оправданиях. Короче говоря, венецианские картины последней декады XV столетия доставляли человеку чисто эстетическое удовольствие, не навязывая ему религиозных идей и не вызывая почтительного преклонения, как во Флоренции. Отныне, когда реальные, земные чувства получили право на существование и не были обязательно связаны с надеждами на блаженство в загробной жизни, от искусства, естественно, стали ожидать активного участия в выражении чисто человеческих стремлений и все большего отхода от церковных идеалов.
Однако во Флоренции живописцы, казалось, не могли или не хотели сделать искусство действительно общедоступным. Да там в этом и не ощущалось такой необходимости, так как Полициано, Пульчи и Лоренцо Медичи были высокоодаренными поэтами, преклонявшимися перед древним миром, и их поэзия вполне отвечала художественным вкусам флорентийцев.
Только в Венеции живопись оставалась тем, чем она была для всей Италии в первые времена своего существования,—общим для всего народа языком. Венецианские художники особенно стремились к усовершенствованию своего мастерства, чтобы современное им поколение могло оценить правдивую наглядность созданных ими картин; а это поколение и в самом деле больше, чем какое-либо другое, существовавшее с начала христианства, было крепко привязано к миру реальной действительности. Здесь снова приходит на ум сравнение Ренессанса с молодостью. Жизненную энергию, которой обладает юность, не нужно сравнивать с мудростью зрелого возраста, и мы не можем ожидать от Ренессанса того проникновения в сущность и смысл вещей и событий, какое присуще современному нам искусству. Но стремление художников Возрождения преобразовать действительность и вмешаться в нее было много сильнее, чем в средние века.
Близко воспринимая идеи нового времени, живопись Возрождения обнаружила необходимость применять и новые светотеневые и пространственные эффекты, не удовлетворяясь только формой и цветом. Действительно, погрешности в рисунке простительны, тогда как ошибки в перспективе, пространстве и цвете совершенно искажают картину для тех, кто, подобно венецианцам, смотрел на произведения живописи ежедневно. Отныне мы замечаем, как венецианские художники стремятся придать живописному пространству реальную глубину, изображаемым предметам — трехмерность; они добиваются расположения различных частей человеческой фигуры в одной плоскости и сопоставляют различные предметы в картине таким образом, чтобы они занимали место в отведенном пространстве один позади другого. Однако в начале XVI века лишь немногим из величайших венецианских художников удавалось создать иллюзию дали путем постепенного уменьшения предметов и тем достичь подобия воздушного пространства.
Таковы немногие специфические проблемы живописи, отличающие ее, например, от скульптуры; среди всех итальянских мастеров их с успехом разрешили только венецианцы и живописцы, примыкавшие к этой школе.
V
Наиболее успешно справились с этими проблемами художники конца XV столетня Джованни и Джентиле Беллини, Чима да Конельяно и Витторе Карпаччо; каждый из них привлекает нас в той мере, в какой он отразил современную ему жизнь. Я уже говорил о том, насколько характерны были для Ренессанса торжественные церемонии, служившие своего рода отдушиной для различных житейских страстей.
Венеция была чрезвычайно властолюбива, и эта черта ощущалась в ней тем сильнее, чем больше интересы ее граждан были посвящены государству. Венецианцы были готовы на все, чтобы умножить его величие, славу и богатство. Чувство благоговейной преданности Республике привело их к мысли превратить свой город в небывалый по красоте памятник, вызывающий огромное восхищение и своим видом дающий больше радости, чем какое-либо произведение искусства, созданное руками человека. Они не довольствовались тем, что сделали свой город самым прекрасным в мире. Они совершали в честь него празднества, устраивая их в духе торжественных церковных обрядов. Организация шествий и зрелищ, происходивших на набережных и на каналах, была непреложной обязанностью венецианского правительства в той же мере, в какой католической церкви вменялось устройство торжественных месс.
Подобные церемонии с дожем и сенаторами во главе, облаченными в пышные одеяния, столь же обязательные для них, как ризы для церковников, происходили среди каналов или сказочной архитектуры Пьяццы и были долгожданным событием в жизни венецианца. Они вызывали в нем гордость за свое государство, удовлетворяли страсть к роскоши, красоте и веселью. Венецианец хотел бы участвовать в них ежедневно, но ввиду редкости подобных развлечений он желал по крайней мере видеть вокруг себя их изображения.
Поэтому в большинстве венецианских картин начала XVI века представлены величественные процессии или события, сходные с ними.
Таковы шествия на Пьяцце в произведении Джентиле Беллини „ Тело Христово“ или празднество на воде в картине Витторе Карпаччо „Св. Урсула покидает свой дом“; часто они представляли пышное, но обычное для Венеции событие — прием или отъезд послов, как в некоторых сценах из „Жизни св. Урсулы“ кисти Карпаччо, или просто показывали толпу роскошно одетых людей на Пьяцце, как в „Проповеди св. Марка“ Джентиле Беллини. Не только жизнерадостный Карпаччо, но и строгий Чима да Конельяно, когда стал постарше, в каждой библейской и священной легенде видел повод для создания светской картины. Подобные картины были популярны еще и по другой причине. Большие полотна, выполнявшиеся наиболее видными художниками для зала Большого Совета во Дворце дожей, должны были иметь декоративно-зрелищный характер.
Венецианское государство поощряло развитие живописи в своих целях, ибо в образной и наглядной форме она неизменно внушала гражданам мысль о достоинстве и величии. Правда, Венеция была не единственным городом, который использовал искусство из политических соображений. Но если в Сиене фрески Амброджо Лоренцетти напоминали о том, что надо управлять государством согласно божеским законам, то картины в Большом зале Дворца дожей были задуманы так, чтобы демонстрировать венецианцам славную политику их Республики. Сюжетами стенной живописи были: „Дож примиряет папу с императором Барбароссой“ — событие, отмечавшее первое вступление Венеции в сферу континентальной политики и характеризовавшее ее неизменную дипломатию — извлекать выгоду, сохраняя нейтралитет между союзниками папы и его противниками. Первое „издание“ подобных произведений, если можно так выразиться, относилось к концу XIV — началу XV столетия, в конце его они уже не отвечали новым художественным требованиям, и потому их социальное значение понизилось. Обоим Беллини, Альвизе Виварини и Карпаччо было поручено вновь изобразить подобные сюжеты, и это дало венецианцам возможность любоваться зрелищами, исполненными кистью и красками на больших полотнах.
Любопытно отметить, что в то же самое время Флоренция заказала своим двум величайшим художникам расписать стены зала Совета во Дворце Синьории, предоставив им полную свободу в выборе темы. Микеланджело избрал для себя сюжет „Флорентийские солдаты, застигнутые во время купания пизанцами“, Леонардо—„Битву за знамя“. Ни один из них не ставил себе целью прославление флорентийской республики; гению художников было предоставлено широкое поле действия: Микеланджело — в изображении обнаженного тела, Леонардо — в передаче движения и жизненности фигур. Оба, создав единственные в своем роде произведения, потеряли в скором времени всякий интерес к ним, и ни один из этих картонов не был закончен. Нам также неизвестно, заслужили ли они одобрение флорентийских властей; картоны послужили образцами для многочисленных учеников, использовавших зал Совета как художественное училище.
VI
Зал Большого Совета в Венеции не был превращен в художественную школу, хотя картины, висевшие в нем, несомненно оказывали свое влияние на развитие мастерства молодых живописцев и производили огромное впечатление на широкую публику. Венецианские сенаторы были далеко не единственными ценителями этих восхитительных полотен с их праздничными шествиями и церемониями. „Общества взаимной помощи“, так называемые „Дома братства“, или скуолы, не замедлили предложить мастерам, которые работали во Дворце дожей, выполнить для них такие же великолепные картины. Скуола Сан Джордже Маджоре, Скуола святой Урсулы и святого Стефана пригласили Карпаччо; Скуола Сан Джованни и Сан Марко — Джентиле Беллини, остальные — менее значительных художников. Работы, выполненные для этих обществ, имели особое значение, во-первых, потому, что только они могли дать нам представление о картинах Дворца дожей, уничтоженных пожаром в 1576 году, во-вторых, потому, что они являлись переходной ступенью к искусству более позднего времени. Выбор сюжетов, прославляющих Венецию и ее политику, зависел от государственного заказа; Дома братства заказывали художникам картины, прославляющие их святых патронов, дабы деяния последних могли служить примером для верующих.
Многие из этих картин изображали пышные празднества. Но, так как они предназначались для внутреннего обихода, то торжественный и парадный стиль был в них значительно смягчен и упрощен. В картине „Тело Христово“ Джентиле Беллини изображает не только пышную процессию на Пьяцце, но и элегантных молодых людей, гордо выступающих в роскошных одеждах, праздных иностранцев и неизбежного нищего у портала собора св. Марка. В сцену с „Чудом святого креста“ Беллини вводит изящных и стройных гондольеров и даже стоящую в дверях дома служанку, которая смотрит на негра, собирающегося прыгнуть в канал. Художник выполняет детали с присущим ему очарованием и с тем безошибочным чувством цвета и света, которое можно найти лишь у таких голландских художников, как Вермеер Дельфтский и Питер де Хоох.
Бытовые эпизоды в ранних произведениях выдающихся венецианских мастеров должны были действовать на зрителя, как искра на трут. Подобные сюжеты стали пользоваться широкой популярностью и начали играть большую роль в выполняемых для скуол картинах, в которых изображалась повседневная венецианская жизнь. Это особенно относится к Карпаччо. Наряду с празднествами он любил и уютные домашние сцены. В „Сне св. Урсулы“ изображен мягко освещенный интерьер, где спит молодая девушка. Нас привлекает простое изображение высокой спальни с нежными световыми рефлексами, играющими на стенах, письменном столе, шкафах и цветочных горшках, поставленных на окна; эту картину никак нельзя назвать скупой иллюстрацией к эпизоду из жизни святой.
Возьмем еще одно произведение из той же серии—„Король мавров прощается с послами“. И в этой композиции Карпаччо уделяет главную роль не фигурам, а эффекту солнечного света, льющегося через открытую дверь слева и освещающего бедного трудящегося писца.
Или возьмите картину „Св. Иероним, работающий в своей келье“, находящуюся в Скуоле Сан Джорджо Маджоре. В ней изображен не кто иной, как венецианский ученый, окруженный своими книгами, сидящий в удобной и светлой библиотеке с небольшой полочкой на стене, украшенной безделушками.
Ни в нем самом, ни в окружающей обстановке нет ничего, свидетельствующего о жизненном самоотречении или ревностном искуплении грехов. Даже на картине „Введение во храм“, сюжет которой давал художнику великолепную возможность передать праздничное зрелище, Карпаччо изобразил простую девушку, идущую к первому причастию.
Карпаччо обладал характером жанрового живописца, являясь самым ранним представителем этого стиля в Италии; его жанр отличается от голландского или французского не по своей природе, а по характеру трактовки. Голландский жанр демократичнее и обладает более высокими живописными качествами, но сюжет в нем играет ту же второстепенную роль, что и у Карпаччо, на первый план выступают чисто живописные задачи и эффекты колорита и светотени.
Разобраться в творчестве Карло Кривелли, не пересматривая при этом наших взглядов на итальянскую живопись XV века, так же невозможно, как втиснуть в рамки узких и ограниченных формулировок такое глубокое и разностороннее явление, как искусство в целом. Кривелли стоит в одном ряду с лучшими художниками всех времен и народов и не надоедает даже тогда, когда „великие мастера“ становятся скучными. Обладая свободой и духом японского рисунка, он выразил в своих картинах неистовую и глубокую исповедь веры, подобную вере Якопо да Тоди, и ту же сладость тонких и нежных чувств, какую мы встречаем в изображениях мадонны с младенцем, вырезанных из слоновой кости французским резчиком XIV столетия. Мистическая красота религиозных образов Симоне Мартини или мучительное сострадание святых в картинах Джованни Беллини отлиты Кривелли в формы, обладающие такой строгостью линий и блеском металла, какие можно встретить лишь в произведениях старого Сатсумы или в японских лакированных изделиях, столь привлекательных на взгляд и на ощупь.
Кривелли следует рассматривать как обособленное явление, созданное отсталой, почти реакционной средой. Прожив большую часть жизни вдали от главных центров культуры, в провинции, где священники старались призвать свою паству к возврату в мир первобытной цивилизации и детских иллюзий, Кривелли не примкнул к передовым течениям в искусстве, и потому мы не включаем его в число мастеров, рассматриваемых в этой книге.
VII
Как мы уже говорили, в начале эпохи Возрождения живопись почти всецело подчинялась авторитету церкви. Позже живопись стала играть большую роль в украшении зала Дворца дожей, а еще позже — в скуолах. Там художники ставили своей целью изображать богатую аристократическую жизнь Венеции. Когда живопись приобрела светский характер, ею стали украшать свои дома богатые венецианские граждане.
В XVI столетии на живопись не смотрели с тем почтительным уважением, какое оказывают ей теперь. Она была почти так же доступна, как печать в наши дни, и почти так же широко распространена. Когда венецианцы достигли высокого уровня культуры, они поняли, что искусство может доставлять им удовольствие. Зачем же идти для этого во дворец или в скуолы? Иметь картины у себя дома стало для венецианцев такой же потребностью, как для нас слушать музыку не только в концертных залах; это не надуманное сравнение, ибо в жизни венецианца XVI века живопись занимала почти такое же место, какое музыка занимает в нашей. В живописи уже не искали занимательности или богословских поучений. Печатные книги, становившиеся общим достоянием, удовлетворяли обе эти потребности. Венецианец эпохи кватроченто был не очень религиозен, и, следовательно, его не интересовали произведения, призывавшие к покаянию или благочестию. Он предпочитал иметь красивую картину, приводившую его в хорошее настроение, напоминавшую о радостях жизни, о пребывании на лоне природы, о сладостных мечтах юности. Из всех итальянских школ только венецианская могла полностью удовлетворить эти желания, и именно она первая стала отвечать художественным требованиям того времени. (Наиболее существенная разница между античным и современным нам искусством заключается в том, что наше искусство все больше и больше обращается к действительности, тогда как классика разрабатывала более отвлеченные и возвышенные темы.)

ДЖОРДЖОНЕ. СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ. Ок. 1508-1510. ФРАГМЕНТ
Париж, Лувр
Картины, предназначавшиеся для частного дома, были, конечно, другого рода, нежели те, что висели в зале Совета или в скуолах, где нужны были большие многофигурные композиции.
Для дома требовались картины меньших размеров, из них, естественно, исключались изображения торжественных празднеств, к тому же их парадный характер не всегда соответствовал настроению заказчика, у которого могла возникать мысль о духовом оркестре, постоянно играющем у него в комнате. Содержание небольших станковых картин не нуждалось в словесном переводе, подобно тому как не нуждается в нем соната. К таким именно произведениям относятся некоторые поздние работы Джованни Беллини. Они полны той неуловимой утонченной поэзии, которую можно выразить только в формах и красках.
Но для веселой и беззаботной юности Возрождения эти картины были несколько аскетичны по форме и излишне сдержанны по колориту. Карпаччо написал незначительное число станковых вещей, хотя он и обладал восхитительной фантазией и любил веселые и радостные краски, что как нельзя лучше отвечало стилю станковой венецианской живописи. А Джорджоне, наследник обоих мастеров, сочетал поэтическое чувство Беллини с веселостью и нарядностью Карпаччо. Охваченный надеждами своего поколения больше, чем другие современные ему мастера, Джорджоне писал картины, столь гармонично выразившие дух Высокого Возрождения, столь пробуждающие в нас чувство прекрасного и дарящие нам его, что они рано заслужили всеобщее признание.
Жизнь Джорджоне была недолгой, и очень немногие из его работ уцелели до нашего времени. Но и их достаточно, чтобы дать нам представление о той короткой поре, когда Возрождение полнее всего выразило себя в живописи. Неистовые страсти той эпохи утихли, и на смену им пришло подлинное понимание красоты человеческих чувств. Трудно сказать о Джорджоне больше, чем говорят его картины, в которых искусство Ренессанса, достигшее вершины, нашло свое наиболее совершенное отражение. Произведения Джорджоне, как и работы его последователей, особенно ценятся теми, кто лучше всего чувствует дух той эпохи, а также теми, кто рассматривает итальянское искусство не изолированно, а в тесной связи с его временем. Именно в этом заключается главное значение живописи эпохи Возрождения.
Другие западноевропейские школы позже преуспели в области чистой живописи гораздо больше, чем итальянская. Рассматривая лучшие произведения итальянских мастеров с чисто технической точки зрения, серьезный ученый вряд ли решится поставить их в один ряд с работами великих голландцев, испанцев или даже художников нашего времени. Но мы глубоко чувствуем, что главное значение живописи Ренессанса заключается в том, что она в наиболее чистом виде отразила эпоху новой истории Европы, имевшую нечто общее с молодостью человеческой жизни. Возрождение обладает очарованием тех лет, когда нам кажется, что мы можем выполнить все обещания, данные и себе и другим.
VIII
Джорджоне создал спрос на камерную живопись, который остальные живописцы должны были удовлетворять даже с риском не иметь такого успеха, как он. Старые художники приспосабливались, как умели. Один из них удивительно выразил в своих поздних вещах чисто итальянскую красоту и очарование весенних дней. Имя Винченцо Катены, написавшего „Воин, поклоняющийся младенцу Христу“ {Лондон, Национальная галерея), мало у кого способно вызвать предчувствие той необычайной радости, которая ждет его. Перед нами возникает благоухающий летний пейзаж с романтическими фигурами — рыцарь в восточных одеяниях преклоняет колено перед мадонной, а юный паж держит поводья его коня. Я специально говорю об этой картине, потому что она наиболее ярко напоминает стиль Джорджоне не столько по содержанию, мастерству и настроению, сколько по передаче прелестного пейзажа, по колористическим световым эффектам, по выразительности и нежности человеческого чувства. В том же духе создана самим Джорджоне его гениальная „Мадонна да Кастельфранко“.
Поэтому молодые художники не могли надеяться на успех, если не умели подражать Джорджоне. Но раньше чем мы сможем оценить все то, на что они были способны, мы должны рассмотреть одну из наиболее замечательных областей искусства Возрождения, а именно — портретную живопись.
IX
Неуклонное стремление к увековечению собственной славы, ставшее настоящей страстью у людей Возрождения, повлекло за собой естественное желание сохранить для потомства память о своей внешности.
Вернейшим путем к этому оказался тот, которым пользовались древние римляне, чьи изображения встречались все чаще и чаще, по мере того как раскапывались античные бюсты и медали. Первые поколения ренессансной знати полагались в этом отношении на скульпторов и медальеров. Эти мастера были готовы к выполнению своих задач. Материал, как таковой, придавал долговечность их произведениям — качество, которое с трудом давалось живописи. От этих художников требовалось лишь умение владеть материалом для изображения человеческого лица. Не нужно было ни фона, ни красок. Поэтому именно их искусство первым принесло богатые плоды. Кроме того, скульпторы и медальеры изучали памятники античного искусства и, испытав на себе его сильное и непосредственное влияние, раньше других способствовали выявлению основных художественных тенденций Ренессанса.
Стремление к типизации образа и присущий этим мастерам дух анализа побуждали их к тщательному изучению человеческого лица, которому они сумели придать цельность и выразительность, иными словами, выявить его характер. Вот почему Донателло, создавший непревзойденные по портретной характеристике бюсты, и Пизанелло, отливавший из серебра и бронзы свои поразительные по сходству портретные медали, опередили в этом отношении живописцев, для которых искусство портрета было в то время еще недоступно.
Тем не менее бюст Никколо да Удзано, исполненный Донателло, ясно показывает, что Возрождение не могло долго довольствоваться скульптурными портретами. Бюст раскрашен настолько натуралистично, что производит неприятное впечатление. Современники Донателло, вероятно, воспринимали его так же, потому что произведений подобного рода немного. По-видимому, необходимость в раскрашенной скульптуре сохранялась до тех пор, пока проблема портрета не была разрешена живописью; иными словами, пока живопись, а не скульптура заняла главное место в этой области.
Необходимость расцвечивать портрет ощущалась не только одаренными скульпторами раннего Возрождения, но и таким величайшим медальером, каким был Витторе Пизанелло.
Будучи одновременно и художником, он стал одним из первых портретистов. В его время, однако, портретная живопись была еще слишком слабо развита и портрет нисколько не выигрывал в сходстве, даже если он был правдоподобно расцвечен. Два сохранившихся живописных портрета кисти Пизанелло — профильные изображения Джиневры и Лионелло д'Эсте— значительно уступают его лучшим медалям и кажутся скорее их увеличенными копиями, нежели портретами, написанными с натуры.
Только следующее поколение художников с его всепоглощающим интересом к образу и типу человека начало создавать портреты, полные жизни и энергии, подобные тем, какие создавал Донателло в начале века. Но даже и тогда лица редко изображались в фас, и только в начале столетия такие портреты стали обычными. Самый ранний из них — голова кардинала Скарампо кисти Мантеньи — бесспорно заслужил бы неодобрение венецианцев. Портрет, столь ясно выражавший характер кардинала — этого волка в овечьей шкуре,—возмутил бы их потому, что подобный облик был несовместим с их представлениями о государственном или церковном деятеле. В портретах дожей, украшавших собой зал Большого Совета, венецианцы желали видеть изображения людей, не столько выдающихся по своим внутренним качествам, сколько правителей, всецело преданных интересам республики. При этом индивидуальные черты их лиц скрадывались тем, что они все были изображены в профиль.
Интересно отметить, что деловые и практичные венецианцы, с уважением относившиеся к портретам своих правителей кисти Джентиле и Джованни Беллини, не удовлетворялись тем, что эти произведения служили украшением только зала Большого Совета. Церковь тоже должна была участвовать в прославлении венецианского государственного строя, поэтому в больших алтарных образах наряду со святыми нередко встречаются изображения дожей.
Утрата не пощаженных временем портретов дожей из зала Большого Совета была возмещена для нас тем, что они еще раз были воспроизведены в больших алтарных образах.
В начале XVI века, когда картины стали украшать собой не только общественные здания, но и частные дома, их сюжеты изменились и стали отвечать не только интересам церкви, но и личной инициативе заказчика.
Однако живопись еще в значительной степени использовалась в государственных и религиозных целях и мало удовлетворяла художественные вкусы широкой публики. Вот почему изображение пейзажа сначала появилось только в картинах, посвященных житию св. Иеронима, удалившегося в пустыню, романтические библейские сюжеты, вроде „Нахождения Моисея“ или „Суда Соломона“, способствовали возникновению жанра, а портрет, полуприкрытый плащом святого покровителя или донатора, прокрался в религиозную композицию.
Однако, укрепив свои позиции, портрет быстро освободился от всякой опеки и оказался одним из самых привлекательных живописных жанров. Помимо явного удовлетворения заказчика, довольного своим сходством, портрет доставлял чисто зрительное наслаждение и душевную радость, присущие всем картинам Джорджоне. С изображениями, вроде кардинала Скарампо, было бы так же трудно ужиться, как и с его прототипом. Они угнетали бы зрителя, вместо того чтобы его успокаивать и радовать.
Джорджоне и его последователи тоже писали мужские и женские портреты; нежный и мечтательный облик людей, изображенных в легкой одежде, на фоне прелестного пейзажа, освежаемого ветерком, чем-то напоминал нам близких и любимых друзей. Но в этих портретах сходство не являлось главной целью; истинное назначение их было радовать глаз и внушать приятные мысли. Все это помогает нам понять причины популярности портретного искусства Венеции XVI столетия.
X
Последователям Джорджоне оставалось только разрабатывать открытую им золотоносную жилу, чтобы получать щедрое поощрение. Каждый, несомненно, внес свой личный вклад в это направление, но спрос на продукцию Джорджоне, если можно так выразиться, был слишком велик, чтобы позволить его последователям сильно отклоняться в сторону. Что представляла собой картина или для чего она предназначалась — уже не имело значения; трактовка любой темы должна была быть яркой, романтической и радостной. Многие художники все еще замыкались в церковные темы, но даже среди них такие, например, как Лотто или Пальма, как Тициан, Бонифацио Веронезе или Парис Бордоне, всецело примыкали к школе Джорджоне.
После смерти последнего Тициан, несмотря на свою цельную и менее утонченную натуру, продолжал работать в том же стиле, почти не уклоняясь от него все последующее десятилетие. Разница между Джорджоне и Тицианом обнаруживается сразу, но их творения роднит общий, присущий им дух.
Однако картины Тициана, написанные им десять лет спустя после смерти своего друга, при сохранении тех же живописных достоинств обладали чем-то большим, как будто их создал другой, более зрелый Джорджоне, глубже проникший в свой душевный мир, с более широким и целостным мировосприятием.
Они полны неизбывной радости жизни и веры в ее ценность и неповторимость. Какое множество шедевров можно предоставить в доказательство этого! Полная мощи, вздымается Богоматерь над покорной ей вселенной в картине Тициана „Вознесение Марии“. Кажется, во всем мире нет силы, которая могла бы противостоять ее свободному взлету на небо. Ангелы не поддерживают ее, а воспевают победу человеческого бытия над бренностью, и их ликующая радость действует на нас подобно восторженному взрыву оркестра в финале „Парсифаля“ Вагнера.
Взгляните на „Вакханалию“, хранящуюся в Мадриде, или на „Вакха и Ариадну“ в Лондонской Национальной галерее! Как захлестывает их радость, бьющая через край! Здесь нет никаких коллизий, лишь одно ощущение свободной, сияющей и страстной жизни, почти опьяняющей нас.
Это поистине Дионисийские торжества, триумфы Вакха! Триумфы жизни над призраками мрака и холода, ненавидящими солнце и свет!
В портретах, написанных Тицианом в эти же годы, чувствуется властность и жизненная сила, в них нет и оттенка обыденности или корыстных стремлений. Подумайте о „Молодом человеке с перчаткой“ в Лувре, о „Концерте“ и о „Молодом англичанине“ во Флоренции, о „Семье Пезаро“ на алтарной картине „Мадонна дель Пезаро“ в церкви Санта Мария деи Фрари в Венеции,—вспомните образы этих людей — и вы поймете, что они подлинные дети Возрождения, не знающие страха и низменных чувств.
XI
Но когда создавались эти произведения, реальные условия жизни уже не соответствовали духу итальянского Возрождения, неповинному в этом конфликте, ибо то был дух молодости.
А молодость быстротечна. Как бы ее ни прожить, наступит зрелость и средний возраст. Жизнь повернулась к венецианцам суровой и более трезвой стороной, чем раньше. Люди начали понимать, что страсть к знанию, славе и личному успеху не лежит в основе всех выдвигаемых жизнью проблем. Флоренция и Рим, обнаружив это внезапно, были потрясены. Смотря на скульптуры Микеланджело в Сан-Лоренцо или на его „Страшный суд“ в Сикстинской капелле, мы словно до сих пор слышим вопль ужаса тех, кого осенила жестокая истина. Но Венецию, хотя и униженную Камбрейской Лигой, обездоленную турками и пострадавшую от открытия морского пути в Индию, не раздавила пята испанской пехоты, как остальную Италию, и она не настолько лишилась доходов, чтобы не скопить в своих сундуках некоторый запас золота. Жизнь стала более трезвой и суровой, но все же она была достаточна хороша и люди хотели жить, хотя у них стала проявляться склонность и к стоицизму и к серьезным размышлениям. И если дух Возрождения медленно проникал в Венецию, то еще медленнее он покидал ее.
И блестящая венецианская живопись, став, правда, к середине века более вдумчивой и зрелой, продолжала хранить ему верность; хранить даже тогда, когда в остальной Италии искусство встало на службу лицемерной церкви, вступившей в мощный союз с испанской монархией; даже тогда, когда прекрасные итальянские юноши, запечатленные на портретах начала столетия, преобразились, следуя духу времени, в льстивых и элегантных придворных. Только венецианцы, как и все люди той эпохи, стали относиться к себе более серьезно, действовать обдуманнее и принимать жизнь с меньшими надеждами и ликованием. В них возникла потребность в иных, более тихих радостях, в дружбе и привязанности. Жизнь оказалась не вечным праздником, как обещала, и у людей зародилась мысль о том, не скрывается ли за обманчивой и грубой маской официальной религии нечто такое, что могло бы возместить им утрату молодости и утешить в разбитых надеждах.
Эти перемены во взглядах привели к тому, что в Италии в противовес национальной и государственной религии начало оживать личное религиозное чувство, в котором человек черпал силы в борьбе с вечным душевным смятением и жизненными тревогами.
XII
Едва ли следует удивляться, что именно венецианскому художнику, впервые испытавшему новые чувства и переживания, раньше других выпало на долю столкнуться с несчастиями Италии. Путешествуя по всей стране, он сумел увидеть то, чего не замечали люди, успевшие укрыться в Венеции от жизненных невзгод.
Лоренцо Лотто, оставаясь верным себе, не изображает на своих картинах ликования и радости. С его алтарных образов и еще больше с портретов на нас смотрит человек, молящий о сочувствии, нуждающийся в религиозном утешении, в освежающей мысли, в дружбе и поддержке. Но Лотто не смог стать выразителем новых религиозных устремлений, он был слишком чувствителен, разочарован и к тому же родился в период расцвета эпохи Возрождения, а новые веяния могли исходить лишь от того, кто лично не пострадал от политических невзгод Италии, от человека более независимого, от художника, подобного Тициану, который охотнее принял бы покровительство знатного сеньора, нежели поддался бы угнетенному настроению, вызванному общественными событиями, лично его не затронувшими. Или такого живописца, как Тинторетто, созвучного эпохе и не испытавшего душевных разочарований.
XIII
Остаться в стороне от событий, происходящих у ваших ближайших соседей, так же невозможно, как иметь ясное небо над своей головой, когда кругом бушует гроза. Господство Испании не распространилось на Венецию, но нельзя было избежать последствий ее почти полной победы над Европой. Жертвы испанского террора, среди которых были итальянские ученые, преследуемые инквизицией, устремились в Венецию в поисках убежища. Так впервые венецианские художники встретились с гуманистически образованными людьми. К счастью для себя, венецианцы были слишком сильны в своем искусстве, чтобы идти на поводу у науки или поэзии, поэтому содружество ученых с художниками было только полезно для обеих сторон. Это видно на примере дружбы и духовной связи двух величайших из них. В нашу задачу не входит говорить о заслугах Аретино, но Тициан вряд ли достиг бы такой прижизненной славы, если бы основатель современной журналистики Пьетро Аретино не находился рядом с ним и не оказывал ему своей дружеской помощи, то восхваляя его, то давая ему дипломатические советы, с кем надо поддерживать светские отношения.
Победа Испании повлекла за собой еще одно последствие. Она заставила итальянцев и даже венецианцев испытать чувство беспомощности перед организованной силой — чувство, которое раньше было незнакомо эпохе Возрождения с его верой во всемогущество личности. Это оказало определенное влияние и на искусство. В картинах Тициана, написанных в последние тридцать лет его жизни, мы не встречаемся больше со свободным и беззаботным человеком, подобным жаворонку в апрельское утро. Отныне художник изображает людей, стремящихся преобразовать окружающую их действительность и страдающих от своего бессилия. Их облик ясно показывает, что жизнь сделала с ними. Большие полотна „Се человек“ и „Венчание тернием“ проникнуты этим чувством не меньше, чем „Конный портрет Карла V“. В первом из них мы видим скорбную фигуру Христа, униженного и беспомощного в своем сопротивлении. В „Венчании, тернием“ тот же богоподобный образ человека, почти потерявшего сознание от боли и муки. В портрете Карла V перед нами не всесильный император, а усталый человек, который должен противостоять сокрушительному удару врага.
Все же Тициану неведомы подлинное разочарование и пессимизм. Многие из его позднейших портретов насыщены большей энергией, нежели написанные им в молодые годы. Он — умудренный опытом светский человек. „Не будь низким льстецом,— говорят его портреты,— но помни, что изысканные манеры и тонкое изящество не повредят тебе“. К тому же Тициан был достаточно гибок и умел применяться к условиям, а изменение его стиля всегда шло в сторону овладения реальностью, что вело к естественному росту художественного мастерства.
Подлинное величие Тициана в том, что глубокое познание жизни приводило его к новым вершинам реалистического искусства. Реалистического эффекта в живописи можно достигнуть применением светотени, изображая в картине замкнутое пространство, насыщенное светом и воздухом, сквозь которые видны очертания предметов. Существуют разные способы овладения этим эффектом. Тициан, отказываясь от точных контуров изображения, достигает его смелостью и энергией красочного мазка, гармонией колористической гаммы.
Живописная манера старого Тициана близка даже к приемам некоторых лучших французских мастеров конца XIX века. Это придает художнику еще большую привлекательность, особенно когда он сочетает ее с мастерской передачей объемной формы,_ что так ясно выступает, например, в „Аллегории мудрости“, находящейся в библиотеке Сан Марко в Венеции, или в „Пастухе и нимфе“ Венского музея. Различие между старым Тицианом, создателем этих картин, и молодым, творцом „Вознесения Мадонны“ и „Вакха и Ариадны“, такое же, как между Шекспиром, из-под пера которого вылился „Сон в летнюю ночь“, и Шекспиром времени „Бури“. Внутреннее родство Тициана и Шекспира не случайно. Они оба— создания эпохи Ренессанса, оба прошли сложный творческий путь, и каждый из них наиболее полно и ярко выразил свою эпоху. Здесь неуместно развивать это сравнение дальше, но я так долго задержался на Тициане потому, что с исторической точки зрения он единственный художник, отразивший в своей живописи подлинную сущность Возрождения.
Это делает его более интересным, чем Тинторгтто, художника во многих отношениях более глубокого, тонкого и даже блестящего.
XIV
Творческая зрелость Тинторетто совпала со зрелостью искусства Возрождения, которое к тому времени принесло богатые плоды, привело к развитию идивидуальности и к уверенности, что мир создан для счастья человека. Если раньше на вопрос: „Почему я должен делать то или иное“—ответ гласил: „Потому что так приказывает стоящая над тобой власть“, то теперь он звучал иначе: „Потому что это принесет людям пользу“. И этим мы полностью обязаны эпохе Возрождения, которая своей конечной целью считала благо человека. Правда, она не довела эту идею до практического осуществления, но мы бесконечно благодарны ей за те результаты, которые сказались в наши дни. Уже за одно это следует считать эпоху Ренессанса выдающейся, даже если бы тогда не существовало никакого искусства. Но идеи, обладающие силой и новизной, почти всегда находят свое выражение в искусстве. В этот период они нашли его в творениях Тинторетто.
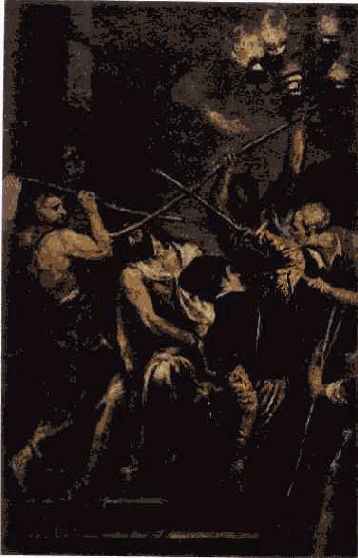
ТИЦИАН. КОРОНОВАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ. Ок. 1570
Мюнхен, Старая пинакотека
XV
Развитие индивидуальности раскрепостило художника от цеховой зависимости. Ему стало ясно, что, освободясь от влияния своей среды, он станет более искусным мастером, коль скоро окажется в обстановке, пригодной для развития своего таланта. Однако это привело к неудачным эклектическим попыткам и препятствовало развитию местных школ живописи.
Искусство, порожденное этими школами, не отвечало вкусам итальянского народа, потому что было оторвано от родной почвы. Оно нравилось узкому кругу потребителей-дилетантов, считавших, что истинное понимание живописи является одной из наследственных привилегий их социального положения.
Однако Венеция мало пострадала от эклектизма, возможно, из-за того, что ярко выраженное чувство индивидуальности пришло туда с запозданием. А к тому времени художники уже были достаточно искушены в своей профессии, чтобы понять, что им нечему учиться у других. Тот единственный венецианец, который отдал дань эклектизму, остался все же великим художником. Несмотря на то, что Себастьяно дель Пьомбо подпал под влияние Микеланджело, бывшее в большинстве случаев вредным, его кисть не утратила своего владения цветом и тоном, ибо он учился у Джованни Беллини, Чимы да Конельяно и Джорджоне.
XVI
Тинторетто вообще не выезжал из Венеции, но он жаждал чего-то, чему Тициан не мог его научить. Город, в котором он родился, был уже не тот, где провел свои молодые годы Тициан, и юношество Тинторетто протекало в период, когда Испания стала фактической хозяйкой Италии.
Постоянное ощущение почти непреодолимого гнета придало страшную притягательную силу творениям Микеланджело. Они проникнуты демоническим чувством. Тинторетто испытал это полностью, потому что он был близок по духу великому художнику Возрождения. Монументальная скульптура Микеланджело была для венецианского мастера чем-то неизмеримо большим, чем образец, по которому можно было учиться лепке обнаженного тела, к чему стремились многие последователи Микеланджело.
Тинторетто непосредственно ощущал огромное этическое воздействие микеланджеловского искусства. Его молодость совпала с усилением церковной пропаганды, связанной с наступившей почти во всей Италии католической реакцией. Охваченные эмоциональным порывом, люди обратились не только к религии, но и к поэзии, которая расцвела в Венеции, ставшей прибежищем для многих культурных людей XVI века и значительно развившей к тому времени печатное дело.
Тинторетто рос под влиянием поэзии и религии с первого дня своего рождения. Независимо от того, служили ли сюжетами его картин классическая фабула или библейский эпизод, он трактовал их крайне субъективно. Чувство силы присущее его замыслам, проявлялось не в изображении колоссальных обнаженных фигур, а в их огромной внутренней энергии и еще больше в эффектах света, которыми он пользовался так, будто его рукам дана была власть прояснить или затемнять небеса, покоряя их своей воле. Можно с уверенностью сказать, что если бы Тинторетто не превосходил Тициана в передаче светотени и воздушной перспективы, он не достиг бы подобных эффектов. Это позволило ему придавать такую жизненность различным евангельским легендам, ибо впечатление реальности не может быть достигнуто в живописи без умелой передачи света и воздуха; в противном случае действительность выглядела бы ужасной, как выглядит она у многих современных художников, которые пытаются писать людей в их повседневном окружении и будничной одежде. Не „реализм“ делает эти картины уродливыми, но отсутствие той мягкости, посредством которой вещам придается жизнь, и той гармонии света, которой подчиняются все тона.
Без великого мастерства светотени Тинторетто не смог бы выразить в картинах поэзию своей души, которую нельзя пересказать словами. Его поэтические образы, написанные для Скуолы ди Сан Рокко, почти полностью созданы светом и цветом. Что другое, если не свет, преображает уединенные обители Марии Магдалины и Марии Египетской в страну мечты, о которой грезят вдохновенные поэты? Что, если не цвет и не свет, придает магическое очарование картине „Христос перед Пилатом“ с ее вечерним мраком, холодом и одинокой фигурой в белом хитоне, скорбно стоящей перед судьей? Что все-таки, если не свет, цвет и звездное шествие херувимов, насыщает реализм „Благовещения“ такой глубокой, проникающей в душу музыкальностью?
Поэзия и религия были близки Тинторетто не в силу греко-римских традиций или предписаний церкви, а потому, что они обе были лично ему нужны, как любому другому. Они заставляли забывать корыстную жестокость жизни, поддерживали в труде и утешали в разочаровании. Религия была ответом на вечно живущую в человеческом сердце потребность любви и веры. Библия перестала быть только свидетельством, подтверждающим христианские догматы; она стала для людей сборником символических притч и рассказов всех времен, в которых говорилось о лучшей и более достойной жизни. Зачем же снова изображать Христа, апостолов, патриархов и пророков только как людей, живших под владычеством римлян, одетых в римские тоги и гуляющих на фоне пейзажей, заимствованных с римских барельефов? Все эти религиозные персонажи стали отныне олицетворением жизненных принципов и идеалов.
Тинторетто так непосредственно ощущал это, что не мог думать о них иначе, как о людях, подобных себе, живущих в тех же условиях, как он и его современники. В самом деле, чем проще были внешность, одежда и окружение святых и отцов церкви, тем лучше понимались и воспринимались олицетворенные ими принципы и идеи. Поэтому Тинторетто, не колеблясь, превращал каждую библейскую легенду в картину, которая выглядела так> реально, как если бы это был эпизод, заимствованный из жизни, происходивший у него на глазах и проникнутый к тому же личным настроением.
Несмотря на колоссальные размеры фигур, Тинторетто в построении форм женского тела все же не избежал влияния маньеризма с его преувеличенно элегантными и изысканными линиями; последний возник как своего рода протест против излишне выражаемой физической силы.
Впечатление, производимое картинами Тинторетто на его современников и на нас, необычайно в силу их поразительного размаха, мощи и реализма. В картинах „Нахождение тела св. Марка“ (Милан, Брера) и „Похищение тела св. Марка из Александрии“ (Венеция, Академия) так блестяще разрешены проблемы света, перспективы и воздушного пространства, так легко и энергично передано движение фигур, хотя и превышающих нормальные размеры, что глаз без насилия воспринимает подобную масштабность построения, и вам кажется, что вы тоже участник этой грандиозной сцены, и вам передается ощущение мощи действующих лиц.
XVII
Великие мастера, стремящиеся к реалистической передаче окружающего мира, поняли, сколь необходимо для них овладеть художественными методами для построения трехмерного воздушного пространства в живописи. Они поняли, что кроме главных сцен можно изображать и дополнительные, усиливающие реалистический эффект картины и придающие ей больше правдоподобия. Это введение второстепенных эпизодов является одной из основных и характерных черт современного искусства, отличающих его от древнего. Это то, что делает драму елизаветинской эпохи столь непохожей на греческую. Это то, что отличает работы Дуччо и Джотто от античной пластики. Живопись начинает интересоваться мелкими жизненными эпизодами, что сообщает ей сходство с романом и сближает с современной ей действительностью. Подобная трактовка придает картине более живой характер, а свет и воздух спасают ее от статичности и безжизненности.
Нельзя подобрать лучшей иллюстрации ко всему сказанному, чем огромное многофигурное полотно Тинторетто — „Распятие“, находящееся в Скуоле ди Сан Рокко. На обширной сцене, в центре, у подножия креста,— группа учеников, охваченных скорбью и отчаянием, тогда как остальные люди, изображенные на картине, смотрят на эту казнь как на привычное и скучное зрелище. Некоторые помогают ее выполнению, другие равнодушно за ней наблюдают, сохраняя при этом невозмутимость уличных сапожников, напевающих за работой. Художник и не стремится сделать их участниками своих переживаний. Тинторетто передал эту сцену столь же бесстрастно, как описал бы ее кто-нибудь из современных великих писателей, например Лев Толстой, раскрыв в ней тем не менее высокий нравственный смысл жертвы.
Пронизанная светотенью, эта огромная картина подобна безграничному световому и воздушному океану, в бездонной пучине которого разыгрывается драматическое событие. Без света и воздуха она была бы безжизненной и пустой, несмотря на оживленную толпу, и казалась бы дном высохшего моря.
XVIII
Одновременно с успешными поисками в области светотеневых живописных решений развивалось и искусство портрета.
Тициан был слишком завален заказами со стороны высоких титулованных иностранцев, чтобы одному удовлетворить огромный спрос на этот жанр, существовавший в Венеции. Тинторетто тоже писал выдержанные в тициановском духе аристократические портреты, выполняя их к тому же с поражающей быстротой. Напоминаю еще раз, что от венецианского портрета требовалось не только простое сходство с оригиналом. Он должен был доставлять наслаждение глазу, действовать на чувства зрителя, и Тинторетто полностью удовлетворил эти ожидания. Хотя его портреты не так субъективны, как у Лотто, не так психологичны, как у Тициана, все же они всегда показывают нам человека с его лучшей стороны, полного здоровья, сил и решимости. Мы смотрим на них с чисто чувственным наслаждением, какое испытываем при взгляде на сияющие драгоценные камни. Одновременно они заставляют нас с удивлением вспомнить о государстве, которое настолько бережно относилось к душевным силам и здоровью человеческого рода, что изображения старых, но еще цветущих людей на портретах Тинторетто не являлись редкостью для венецианской живописи.
После смерти Тинторетто венецианское искусство стало медленно клониться к закату. Однако история его упадка не обладает той же привлекательностью, как история его возникновения и развития. Нам стоит познакомиться все же с творчеством художников —не венецианцев, но примыкающих по ряду причин к венецианской школе.
XIX
Ряд провинций подчинился Венеции не только в силу ее господства над ними. Общностью языка и образом правления они составляли единое и независимое целое на итальянском полуострове. Подобно тому как живопись Возрождения вскормлена почвой всей Италии, отдельные ее провинции были вскормлены Венецией, особенно в области живописи, музыки и литературы. Но все же надо отметить различие между такими городами, как Верона, имевшую самостоятельную художественную школу, со школами Виченцы и Брешии, живописцы которых были обязаны как Венеции, так и Вероне. То общее, что связывает между собой Романино, Моретто да Брешия и Монтанью из Виченцы, довольно сильного мастера, с эклектиками позднего Ренессанса, делает произведения первых, за некоторыми исключениями, менее привлекательными, чем работы венецианских художников.
Они и сами чувствовали свое несовершенство: у них отсутствовали непосредственность, живость и естественность. Нередко их работы превращались в неловкие копии с картин венецианских и веронских живописцев, где колорит господствовал над формой, греша безвкусицей. Но были школы, не знакомые даже с традициями Виченцы или Брешии и где, если вы захотели учиться живописи, вы становились учеником того, кто сам был лишь учеником одного из последователей Джованни Беллини.

ВЕРОНЕЗЕ. ПИР В ДОМЕ ЛЕВИЯ. 1573. ФРАГМЕНТ
Венеция, Академия
Это особенно относится к городам, расположенным между Юрскими Альпами и морем, на длинной полосе равнины, известной под названием Фриули. Из Фриули вышел один талантливый, обладающий большой изобразительной силой художник — Джованни Антонио Порденоне, но ни его талант, ни сила, ни даже обучение в Венеции не могли стереть с его произведений отпечатка провинциальности, который он приобрел у своего первого местного учителя.
Но такие художники никогда не пользовались успехом в столице. Когда силы Венеции начали истощаться, как у Рима в эпоху упадка, она начала привлекать к себе чужих мастеров, например Паоло Веронезе, искусство которого хотя и созрело самостоятельно, но все же очень походило на венецианское, или приглашала живописцев с совершенно новым направлением, вроде Бассано.
XX
Паоло Веронезе был потомком четырех или пяти художественных поколений Вероны, из которых первые два или три обращались к народным массам на таком доступном им языке, каким обладали не многие живописцы. Поэтому в эпоху раннего Возрождения не было ни одного из североитальянских художников, тем более флорентийских мастеров, которых не коснулось бы влияние веронцев. Но непосредственные предшественники Паоло уже разучились говорить на языке, понятном пароду. Они также игнорировали те передовые и культурные круги, которые высоко оценили и поняли творчество Тициана и Тинторетто.
Верона, находившаяся под протекторатом Венеции, не отличалась прогрессивным образом мысли, и ее жизнь, простая, здоровая и беспечная, не была затронута приближающимися политическими потрясениями.
Но если город медленно поддавался подлинно культурным воздействиям, то мода проникала в него быстро. Испанские фасоны одежды и испанский придворный этикет скоро дошли и до Вероны, и мы находим их в картинах Паоло Веронезе в прекрасном сочетании с цветущим видом, беззаботностью и простотой нравов ее обитателей. Эти отлично уживающиеся между собой противоречия составляли главное очарование живописи Веронезе, пленяющей нас и по сей день, так же как она, очевидно, пленяла современных ему венецианцев; последние, достаточно искушенные в искусстве, полностью оценили в его творчестве эту счастливую совокупность церемонного этикета и роскоши с чисто детской непосредственностью чувств. Возможно, что среди его самых сильных почитателей были те люди, которые особенно ценили изысканность Тициана и поэтичность Тинторетто. Но любопытно отметить, что главными заказчиками Паоло были монастыри. Искренняя жизнерадостность и светскость, то есть те качества, которые мы находим в изображениях его пиршеств, казалось, пришлись особенно по вкусу тем, кто утолял свой голод и жажду в совершенно другой обстановке. Это не только краткий комментарий к истории эпохи, но и доказательство того, как глубоко проник дух Возрождения, если даже религиозные ордена считали для себя возможным пренебрегать правилами аскетизма и догмами благочестия.
XXI
Венецианская живопись не отразила бы целиком идеалов Высокого Возрождения, если бы прошла мимо изображения сельской местности. Горожане испытывали естественную привязанность к деревне, но в средние века, когда жизнь человека подвергалась опасности, коль скоро он отваживался выйти за пределы городских ворот, эта любовь не могла проявиться открыто. Пришлось ждать до тех пор, пока городские окрестности не освободились от бродяг и разбойников. Это стало возможным лишь тогда, когда деревня постепенно подчинилась власти соседних городов, уже затронутых цивилизацией. В эпоху Возрождения любовь к природе и сельским развлечениям была в значительной степени подсказана латинскими авторами.
Итальянец мгновенно откликался на назидания и советы великих римлян, особенно в тех случаях, когда они совпадали с его естественными склонностями и обычаями. Для состоятельных людей стало хорошим тоном проводить часть года на своей загородной вилле. Классические поэты были их друзьями в уединении сельской жизни, помогая оценить простоту, почувствовать ее прелесть. Многие хотели иметь изображение своих вилл и садов в городском доме. Может быть, в ответ на такое еще не ясно осознанное желание Пальма начал писать „Святые собеседования“ — группы святых под тенистыми деревьями, на фоне живописных пейзажей. Его ученик Бонифацио Веронезе продолжал в том же духе, постепенно отходя, однако, от традиционного изображения мадонны и святых и называя свои картины „Пир у богача“ или „Нахождение Моисея“; он писал разнообразные сцены светской жизни на лоне природы: концерты на террасе загородной виллы, охоты и пикники в лесу.
Ученик Бонифацио Якопо Бассано также любил изображать сельские сцены. Его картины предназначались для обитателей маленького торгового городка Бассано, откуда и произошло его имя и где внутри городских стен вы и сейчас сможете увидеть мужчин и женщин в грубой деревенской одежде, торгующих своими пестрыми изделиями, где сразу же за городскими стенами раскинулись поля и работают крестьяне.
Поддавшийся желанию, хотя и не вполне осознанному, придать бытовой характер библейским легендам, Бассано почти в каждую написанную им религиозную или мифологическую композицию вводил эпизоды из уличной жизни своего городка и близлежащих деревень. Даже Орфей в его исполнении превратился в деревенского парня, развлекающего домашних птиц игрой на скрипке.
Картины Бассано и его двух сыновей и последователей имели большой успех в Венеции и других местах, потому что они бесхитростно изображали простое деревенское существование, прелесть которого возрастала по мере того, как времяпрепровождение венецианских аристократов становилось все более светским. Но изображение сельской жизни было далеко не единственным очарованием этих картин.
Люди научились понимать язык живописи, и потому им стали нравиться красивые вещи, которые она изображала. Искусство Бассано не преследовало никакой определенной цели, но доставляло удовольствие мастерством светотеневых эффектов и своим красочным богатством.
В третьей четверти XVI века появились особенные ценители подобных картин, и успех Бассано потому был очень велик. Венецианцы издавна отличались пристрастием к красивым вещам, вызывавшим в них чисто чувственное наслаждение. Они любили искусство, в котором почти отсутствовало глубокое интеллектуальное содержание, и первое место отводилось колориту, сияющему как самоцветные камни или опалы. И венецианское стекло служило той же цели, так как в нем особенно ценились форма и цвет. Когда живопись освободилась из-под церковной опеки и на нее перестали возлагать чисто декоративные функции, люди стали наслаждаться ею в той же мере, в какой наслаждались лицезрением драгоценных камней и венецианского стекла. Этому всецело отвечали работы Бассано. Его картины иногда так ослепительны и свежи по своему прозрачному, холодноватому колориту, что их можно сравнить с лучшими образцами венецианского стекла, а отдельные детали, ярко освещенные и насыщенные цветом, сияют, как рубины и изумруды.
После всего сказанного ясно, что Бассано превосходил и Тициана и Тинторетто в передаче света, воздушной среды и изображении реальной жизни. Если бы это было не так, то ни тогда, ни теперь работы Бассано не ценились бы столь высоко. Жизнь, представленная в них, более скромна, нежели в картинах Тинторетто, и если бы не его воздушные и светотеневые эффекты, он мог бы сравниться с маленькими голландцами. Следует даже добавить, что Бассано был бы превзойден Тенирсом, если бы не обладал своим изумительным и драгоценным колоритом.
Бассано писал пейзажи и сельскую жизнь, так как его живописное мастерство было создано для этой цели. Он действительно был первым художником-пейзажистом в современном смысле этого слова. Тициан, Тинторетто, Джорджоне и даже Беллини и Чима да Конельяно писали красивые ландшафты, но они редко были сделаны с натуры.
Это были декоративные фоны или гармоничные аккомпанементы к религиозным или светским сценам. Они всегда были грандиозны и эффектны, Бассано не нуждался в таких декорациях для своих простонародных библейских сказок и пасторальных пейзажей. Деревня сама по себе оказалась подходящим и единственно возможным фоном. Поэтому Бассано был первым итальянцем, который старался писать деревню такой, как она есть, не делая ее искусственной декорацией.
XXII
Мы ценим Бассано за то, что он обладает жизненной правдивостью и непосредственностью. Он первый проложил путь, приведший в конце концов к Веласкесу. Действительно, одна из важных черт венецианской школы заключается в том, что она больше, чем какая-либо другая, повлияла на формирование этого великого испанского художника. Веласкес в какой-то мере начал как последователь Бассано, но стиль его определился только после многолетнего изучения работ кисти Веронезе, Тинторетто и Тициана.
XXIII
Бассано не обслуживал своей живописью какой-нибудь определенный класс потребителей и нравился коллекционерам картин чисто случайно. Художники, пришедшие на смену ему и Тинторетто, не были, подобно Тициану и Тинторетто, связаны только с культурной верхушкой Венеции, они отличались большей целеустремленностью, нежели Веронезе, и отвечали вкусам широких народных масс, понимавших и ценивших их искусство.
Пальма-младший и сын Тинторетто Доменико начали успешно работать в качестве последователей Тинторетто. Но, поняв превосходство своих учителей и не имея возможности превзойти их, они стали разрабатывать темы наиболее популярных картин Тинторетто и Тициана. Таким образом, их слабые работы лишь внешне напоминали произведения великих мастеров. Падованино, Либери и Пьетро делла Веккьо еще более откровенно занимались подражанием, и их картины в отдаленных от Венеции местах сходили за работы Тициана, Веронезе и Джорджоне.
Все же эти, пусть не оригинальные, вещи не лишены привлекательности. Бывают любимые мелодии, которые приятны нам даже тогда, когда они повторяются в пьесах третьестепенных композиторов.
XXIV
Но венецианской живописи не суждено было умереть в безвестности. В XVIII веке, до окончательного падения Республики, Венеция дала трех или четырех художников, которые по праву занимают место наряду с лучшими мастерами этого столетия. Государственный строй Венеции, казалось, был незыблем. Она была еще самым великолепным и красивым городом в мире и по-прежнему торжественно праздновала все выдающиеся события своей жизни. Если эти торжества были пусты и бессодержательны, то не более, чем в остальной Европе.
Восемнадцатый век был силен своей самоуверенностью и самодовольством. Казалось, исчезли разногласия, отсутствовали проблемы, которые человеческий ум, свободный от суеверий, не мог бы разрешить. Все были настроены празднично; веселье и легкомыслие этого века занимали такое же место, как политика и культура. Не существовало важных или крупных дел. Парикмахеров и портных встречали на утреннем приеме знатной дамы с таким же уважением, как философов и государственных деятелей. Люди развлекались и были довольны жизнью. Любовь к картинам не угасала в Венеции, и Пьетро Лонги изображал домашнее и светское времяпрепровождение венецианцев. В его маленьких жанровых картинах мы слышим сплетни парикмахера, облаченного в парик и причесывающего даму, болтовню служанки, звуки скрипки, аккомпанирующей уроку танцев. Нигде не слышно ни единой трагической ноты. Все наряжаются, танцуют, отвешивают поклоны, пьют кофе, как будто в мире нет ничего более важного.
Изысканно-любезный тон, светские манеры и яркая жизнерадостность отличают картины Лонги от работ Хогарта, одновременно и грубоватых и беспокойных.
XXV
Но даже в своем упадке Венеция осталась не менее прекрасной. Действительно, здание, так часто встречающееся в венецианских картинах XVIII столетия и остающееся поэтому надолго у нас в памяти,—церковь Сайта Мария делла Салюте — было построено только в XVII веке.
Именно ее изображение любили венецианцы, и каждый чужеземец хотел увести его с собой на память. Каналетто писал Венецию с таким мастерством и чувством воздушной перспективы, передавая легкий, окутывающий ее туман, что его живописные эффекты делают виды церкви делла Салюте, Большой канал и Пьяцетту более похожими на настоящую Венецию, чем все картины, существовавшие до него.
Следом за Капалетто шел Гварди, писавший небольшие городские пейзажи, обладавший даром удивительного живописного видения и схватывающий такие мгновенные цветовые эффекты, что своим творчеством он предвосхитил и романтиков и импрессионистов XIX столетен.
XXVI
Все же, как ни прелестны произведения Лонги, Каналетто и Гварди, как ни проникнуты они духом своего века, у них не было той мощи, которая необходима для создания собственного стиля, выражающего мировоззрение художника. Этим качеством в полной мере обладал лишь их современник — Джованни БаттистаТьеполо.
Огромный размах и темперамент, высокое живописное мастерство, художественный вкус ставят Тьеполо почти на один уровень с великими венецианцами XVI века, которым он был многим обязан, особенно Веронезе. Однако большие многофигурные композиции Тьеполо отличаются от произведений его предшественников не по мастерству, а по отсутствию той искренности и простоты, которые всегда были присущи Веронезе, какое бы значительное событие тот ни изображал,
Люди Тьеполо высокомерны, как будто считают, что для сохранения своего достоинства они должны быть всегда представительны и величественны. Они настолько чувствуют свое превосходство, что с ними неприятно находиться вместе, хотя они держатся с таким тактом и так великолепно одеты, что смотреть на них большое удовольствие.
Мировосприятие Тьеполо совершенно иное, чем у художников XVI века, потому что окружавший его мир не был уже прежним. Веронезе воспринимал жизнь, едва затронутую нравами испанского двора, а Тьеполо жил среди людей, чьи души были отравлены безграничным высокомерием испанского абсолютизма.
Но благодаря силе и темпераменту своей живописи Тьеполо смог дать новый толчок искусству. Иногда этого художника воспринимаешь не как последнего из старых мастеров, а как первого из новых. Работы, созданные им в Испании, в значительной степени способствовали возрождению ее живописи во времена Гойи, а Гойя в свою очередь имел большое влияние на многих лучших французских художников последнего времени.
XXVII
Таким образом, венецианская живопись, раньше чем замереть навсегда, дала еще одну яркую вспышку. В самом деле, едва ли не главной прелестью венецианских мастеров является то присущее им чувство современности, которое роднит их с нами, непосредственно связывая с искусством сегодняшнего дня.
Мы видели, как в двух разных случаях венецианские художники оказали влияние на испанских мастеров, а те в свою очередь — на современную нам живопись. Было бы также нетрудно, хотя это не входит в мою задачу, показать, чем обязаны венецианцам художественные школы XVII и XVIII веков: фламандская во главе с Рубенсом и английская —с Рейнольдсом.
Моей целью было обратить внимание читателя на некоторые привлекательные стороны венецианской живописи и главным образом подчеркнуть ее тесную связь с мыслями и чувствами эпохи Возрождения. В этом, может быть, и заключается ее основной интерес, потому что, выразив с таким совершенством дух Возрождения, она помогла нам глубже понять тот период, который обладает очарованием юности и потому нам особенно дорог.
В какой-то мере эта эпоха нам близка и понятна. Мы тоже охвачены безграничной любознательностью. Мы тоже испытываем опьяняющее нас чувство человеческой гениальности. Мы тоже верим в великое будущее человечества, и ничто не может сдержать радость, охватывающую нас на путях к великим открытиям, или поколебать нашу веру в торжество жизни.
